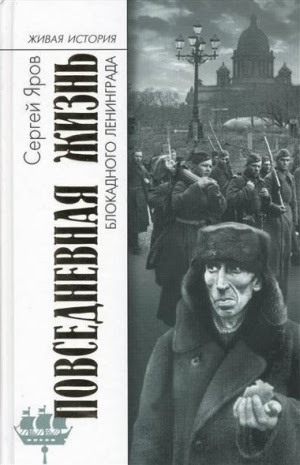Эта книга — рассказ о том, как пытались выжить люди в осажденном Ленинграде, какие страдания они испытывали, какую цену заплатили за то, чтобы спасти своих близких. Автор, доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена и Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Викторович Яров, на основании сотен источников, в том числе и неопубликованных, воссоздает картину повседневной жизни ленинградцев во время блокады, которая во многом отличается от той, что мы знали раньше. Ее подробности своей жестокостью могут ошеломить читателей, но не говорить о них нельзя — только тогда мы сможем понять, что значило оставаться человеком, оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в «смертное время».
Глава из книги:
О культурной жизни осажденного города написано много, но меньше всего — самими блокадниками, не принадлежавшими к литературному и артистическому миру. «Теперь, когда слышишь или читаешь о блокаде Ленинграда, может сложиться впечатление, что главные ее события — непрекращающаяся деятельность Театра музкомедии, Седьмая симфония Шостаковича и стихи Ольги Берггольц. Никто из окружавших меня людей ничего об этом не знал, мы знали только голод, холод и горе», — рассказывал Л.Б. Ратнер. Ему вторит Е.В. Костина, писавшая, что «никаких развлечений в блокадном Ленинграде не было, вопросы выживания — принести воду, отстоять очередь за хлебом, вернуться домой — занимали много времени и отбирали жизненные силы».
Можно было бы говорить о пристрастности этих строк, если бы не та скупость, с которой пишут о досуге авторы сотен других блокадных документов. У каждого времени свои культурные символы. Они имеют сложное происхождение. Они упрочились посредством ярких эмоциональных рассказов художественно одаренных людей, и потому на них чаще обращали внимание. Они соответствовали распространенным представлениям о том, какими должны быть образцы героического поведения. На них основывался канон блокадной истории, предложенный властями и поддержанный всеми формами идеологического воздействия, — и потому быстрее усвоенный позднее общественным мнением.
Театров в городе во время блокады почти не осталось: большинство их вывезли из Ленинграда к августу 1941 года. Некоторые театры (им. Ленсовета, им. Ленинского комсомола) пытались давать спектакли еще и осенью 1941 года, но вскоре и они закрылись, как и работавшие в городе два кукольных театра. Чаще прочих давал спектакли Театр музыкальной комедии — его нередко (и не совсем точно) называют единственным театром, существовавшим во время блокады. В ноябре 1941-го — январе 1942 года театр представлял собой скорбное зрелище. В зале было холодно и не очень светло, публика сидела в пальто, спектакли часто прерывались обстрелами, во время которых зрители обязаны были идти в бомбоубежище. «Честно говоря, артисты не в лучшем виде», — вспоминал посетивший театр в ноябре 1941 года А. Гордин. Похоже, власти не очень-то заботились о них: во время антрактов актеры иногда падали в голодный обморок, а чтобы доиграть спектакль, выбрасывали из оперетт «второстепенные арии». Д.В. Павлов рассказывал, как они вымаливали у посетивших театр руководителей города тарелку пустого дрожжевого супа, — заметим, что не одну порцию такого варева могли получить рабочие в заводских столовых и без всяких карточек.
23 декабря 1941 года здание театра было разбомблено и его перевели в помещение Театра им. А С. Пушкина, ранее эвакуированного из города. На новом месте театр прижился не сразу, а в январе—феврале 1942 года он работать не мог: не имелось ни света, ни отопления. Когда он вновь открылся в марте 1942 года, многие почувствовали, что посещавшая его публика стала другой. Истощенные, еле передвигавшие ноги блокадники редко стали бывать в театре — да и трудно сказать, какое веселье здесь могли ощутить люди, недавно потерявшие родных и близких. В театре зато появилось много военных и вызывавших особое раздражение их подруг в золотых украшениях и с лицами, не отмеченными клеймом блокады. У входа стояла толпа, в которой быстро углядели спекулянтов, — здесь иногда готовы были отдать за билет суточную порцию хлеба.
Значение Театра музыкальной комедии выявлялось не в его патриотических постановках (их было немного) и не в том, что он пробуждал высокие чувства у людей: жанр оперетты специфичен. Имелись разные мнения и об игре артистов, но главным было то, что он поддерживал (как и другие немногочисленные культурные учреждения) в какой-то мере уровень цивилизованности горожан. Культурные потребности, пусть даже и примитивные, вырывали человека из рутины животного существования — а кто знает, где начинается порог одичания. И сама возможность побыть с другими людьми, сопереживать с ними, следя за фабулой спектакля, ощутить себя «театралом», способным думать не только о еде, — разве это не делало людей лучше, разве это не помогало сохранить у них, хотя и не у всех и не надолго, отзывчивость и человечность.
Судьбу театров в первую блокадную зиму разделила и филармония. Побывавшая 26 октября 1941 года здесь В.М. Инбер отметила, что «зал концертный не так наряден, как прежде, нетоплен»; в начале декабря люстры зала горели в четверть. В верхней одежде здесь находились не только зрители, но и оркестранты — «кто в валенках, кто в полушубках». Многие из них и умерли в «смертное время» — из музыкантов, служивших в оркестрах Кировского театра, филармонии и радиокомитета, к апрелю насчитывалось в Ленинграде только 20 человек. В апреле 1942 года удалось воссоздать Большой симфонический оркестр — музыкантов искали всюду, их работа была вознаграждена карточками I категории. Согласно наиболее распространенной версии, формированию оркестра во многом способствовал А.А. Жданов, возмутившийся тем, что на радио «разводят уныние». Передавать веселые концерты в «смертное время» казалось кощунством. А.А. Фадеев, уезжая из Ленинграда, все время напевал фокстрот, и ехавший с ним А.И. Пантелеев удивился: в каком из ленинградских домов он мог услышать его? Радиопередачи, среди которых преобладали литературные, но отсутствовали музыкальные, стали приметой первой блокадной зимы. Наиболее значительными событиями музыкальной жизни 1942 года стали исполнение 14 июня Шестой симфонии П.И. Чайковского и 9 августа Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича. Последнему событию был придан официальный статус — на концерте присутствовали все руководители города за исключением А.А. Жданова. Существуют разные мнения и об уровне исполнения симфонии, и о том, какая публика собралась в этот день в зале филармонии, — но и сам этот концерт, как и произведение Д.Д. Шостаковича, многими было оценено (в значительной степени и позднее) как особое признание стойкости ленинградцев.
Кинотеатры осенью 1941 года становились все более безлюдными. В блокадную зиму 1941/42 года почти все они закрылись: нечем было отапливать, прекратилась подача тока. Первым 4 марта 1942 года открылся кинотеатр «Молодежный», здесь демонстрировался фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Когда читаешь блокадные дневники, то становится ясным, что выбор фильмов в 1942—1943 годах во многом являлся случайным — смотрели то, что предлагали кинотеатры, а многого они предложить не могли. Мало задумывались над тем, стоит ли их смотреть, хотели прежде всего «развеяться». И среди увиденных кинокартин выделяли в первую очередь те, которые помогали хоть на миг уйти из блокадного ада. По впечатлениям блокадников видно, что из фильмов зачастую извлекались, словно красивые «видовые» открытки, именно картины уюта, безмятежности и сытости, соединенные с прошлой жизнью. «Не могу сказать, что мне очень хотелось в кино, но я как будто заставляю себя воссоздавать по мере возможности образ жизни, свойственный довоенному времени, чтобы чувствовать себя живым, не раздавленным человеком, сохраняющим свой внутренний склад», — записывала в дневнике 10 августа 1942 года И.Д. Зеленская.
Осенью 1942 года в городе работал 21 кинотеатр, но прежнего ажиотажа среди кинозрителей не наблюдалось — купить билет было легко и в воскресенье. Кинорепертуар в основном состоял из развлекательных картин, в том числе американских, и, разумеется, новинок отечественного кино. Таковых, правда, было мало. Примечательна реакция горожан на фильм «Ленинград в борьбе». Фильм был принят, вероятнее всего, сдержанно — оценки его в блокадных документах найти трудно. «Трагизм внешних переживаний Ленинграда передан не достаточно сильно — “разбавлен и подсахарен”, как выразился один знакомый», — записывала в дневнике 25 июля 1942 года М.С. Коноплева.
Как правило, посмотреть фильмы от начала до конца удавалось редко. Иногда сеанс прерывался несколько раз, зрители уходили из кинотеатра, не дожидаясь конца показа. Именно из-за того, чтобы уменьшить жертвы во время обстрелов, часть кинотеатров в центре города была закрыта с 1943 года.
Чтение книг, может быть, и не занимало большого места в блокадном досуге, но оно тоже должно быть отмечено. Оцепенение и усталость, охватившие людей в «смертное время», нежелание тратить драгоценный керосин, повседневный быт, требовавший много времени, — всё способствовало тому, чтобы погасить интерес к книге. Обслуживала читателей тогда Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина — фотографии ее посетителей и сотрудников, истощенных, сидевших в пальто и шапках, стали частью блокадной символики. Менее известна работа районных библиотек. Число их сокращалось, мало кто хотел в них работать, поскольку здесь не имелось шансов получить карточку I категории. Библиотекари умирали от голода. Свидетельств о работе районных библиотек мало, тем драгоценнее записи, оставленные сотрудником Детской библиотеки Дома пионеров Свердловского района Л.А. Афанасьевой: «Работали в течение светового дня (ни отопления, ни освещения не было), в десять утра… открывали висячий замок и мы заходили в библиотеку. Хотя… был март (1942 года. — С.Я.), стояли еще морозы, чернила замерзли и записи в формулярах делались карандашом, но приходили дети и подростки, брали читать книги. Девочка лет четырнадцати спрашивала “что-нибудь про любовь” и Евдокия Иосифовна (сотрудница библиотеки. — С. Я.) дала ей Тургенева… Весной 1942 г. поговаривали о розыске невозвращенных книг, но сил было мало, чтобы ходить по квартирам».
Зимой 1941/42 года действовали профсоюзные библиотеки на предприятиях и в учреждениях, их число достигало 115. Данные официальной статистики надо, конечно, принимать с осторожностью — на законсервированные заводы в блокадную зиму люди приходили не за книгами, а за обедом. Нельзя не сказать и о школьных библиотеках, хотя их число уменьшилось в 1941—1942 годах с 451 до 84. Начало нового учебного года предохранило их от полного упадка. Никакого существенного пополнения библиотечного фонда в 1941—1943 годах не производилось, обходились ранее собранными книжными коллекциями.
Книги пользовались спросом в осадном городе. У букинистических лавок (особенно это было заметно весной и летом 1942 года) толпилось немало людей. Искали, прежде всего, «переводные» и приключенческие романы, но устойчивый спрос был и на книги русских классиков. Чаще всего разборы прочитанных книг с привкусом школьной дидактики можно встретить в дневниках школьников-подростков. Приведем один из них, принадлежащий Ольге Носовой, — он может показаться наивным, но обратим внимание на то, когда он составлен — 21 ноября 1941 года: «Тургенев “Рудин”… Нравится только Лежнев Михайло Михайлович, Рудин что-то мне не ясен.
“Дворянское гнездо”. Нравится Марфа Тимофеевна. Очень. Лаврецкий тоже. С Паншиным у меня очень много общего: тоже люблю поговорить о себе. Лиза Калитина не совсем.
“Дым”. Ничего не поняла. Почему Литвинов м[ог] вернуться к Тане, если он любил Ирину Павловну.
Гонкур “Братья Земгано”. Пожалуй, я с ними согласна, но и в обратную сторону тоже».
19 декабря 1941 года она продолжила свои разборы. Они теперь более подробны, вдумчивы, в них есть тяготение к правильному, нормативному, «красивому» языку — вероятно, представилась возможность излагать их менее конспективным языком:
«…”Робинзон Крузо”. Первая часть мне гораздо больше нравится. В ней… очарование спокойствия, плавной речи и даже, не знаю, можно ли так сказать, какой-то домовитости… Вторая часть совсем в другом духе. Посещение острова и обращение туземцев немного скучноваты. Но зато поездка вокруг света и путешествие по Сибири чрезвычайно любопытны.
Макаренко “Педагогическая поэма”. Вот это именно книга в моем вкусе. Книга, от которой не оторвешься, после которой хочется действовать, жить, работать.
Я вполне согласна с Макаренко, что словами ничего не сделаешь. Это нужно хорошо изучить человека, чтобы найти ту струнку, которую можно заставить звучать по-своему».
Мать ее была библиотекарем, и, вероятно, выбор литературы был осуществлен не без ее подсказки; можно говорить и о привитом ею дочери навыке чтения. Но когда мы задумываемся над тем, почему блокадник не утрачивал человеческие черты, то лучше было бы говорить не о числе театров, а вот об этом, порой интимном, разговоре с книгой, об этом воспрошании и радости единения с привлекательными героями романов, о том светлом, что тянуло к ним читателя.
Это светлое пытались найти и в семейных, и в общественных праздниках. Самым популярным было празднование Нового года. О том, как встречали 1942 год, очевидцы блокады вспоминали не раз. Праздник был поводом для того, чтобы собраться вместе с родственниками, знакомыми, друзьями и ощутить приметы, хотя и иллюзорные, довоенного уюта. Собирали вскладчину продукты, старались, чтобы на столе обязательно были бутылка вина и конфеты — символ праздника. Чтобы купить конфеты в конце декабря 1941 года (их выдавали по 800 граммов), приходилось отстаивать длинные очереди и брать то, что давали: «Конфеты из дуранды на конфеты не похожи, какие-то кубики, пахнут мылом и тяжелые». Е. Мухина отмечала в дневнике 30 декабря 1941 года, что «это такой суррогат, нельзя понять, из чего он сделан… Одним словом, замазка. На вкус совсем несладкая».
К Новому году приберегали «цивилизованные» продукты, или, как говорили, «шикарные вещи», стол покрывался белой скатертью. Вот перечень блюд, которые стояли на новогоднем столе З.В. Янушевич: квашеная белая капуста, жареные лепешки из картофельных очисток, колбаса, «распаренные чудные сухари», горячая кукурузная каша из отсевков, выданных ей как служащей Института растениеводства, чай. Подготовке к Новому году посвящено несколько страниц в дневнике школьницы О. Носовой. Гости принесли салат, банку крабов, кисель и вино, а хозяева — бутылку портвейна и «торт», изготовленный из белого хлеба. Когда пришло время дарить подарки (а этот ритуал соблюдался во многих семьях блокадников), то О. Носова получила «аварийную» плитку шоколада. «Тут же разделили, хотя тетя крестная и убирала ее, и говорила, что надо отдать мне, и пр., но мама настояла, т. к. ей ее, видно, очень хотелось».
Скажем прямо, не у всех стол был таким, и не всегда здесь было весело. «И вдруг все заплакали. Первая мама», — вспоминал И.С. Глазунов о новогодней встрече родственников, ставших неузнаваемыми. Собравшиеся голодные люди приносили с собой лишь крупицы съестного, хотя, может быть, и надеялись подкормиться во время праздника. Но шли не только за этим, шли к человеческому теплу, шли к участливым людям, которые пожалеют, выслушают и не оттолкнут. Для многих Новый год — это пересчет вех, потерь, это сравнение прошлого с настоящим. Именно здесь чувствовали «размораживание» человека, ушедшего на краткий миг в прошлое из воронки блокадного ада. Он словно становился другим, не отягощенным повседневным бытом, вырванным из нескончаемой вереницы очередей, из суеты, из слухов, из лютого холода, из нестерпимых голодных мук «Мы же вдвоем… попировали: на этот раз у нас был свет, было тепло (последний раз в этот день истопили кабинет), мы сварили кофе, выпили по рюмочке вина, а на ужин у нас были такие деликатесы как по большой, крупной картошке на брата… Кофе мы пили на этот раз не только с сахаром, но даже с белыми сухариками. А после читали стихи любимых поэтов» — так встретили Новый год Марк Константинович Азадовский и его жена Лидия Владимировна.
Одним из главных событий новогодних празднеств 1942 года стало проведение «елок» для детей. Билет на «елку» стоил 5 рублей, но детям из семей военнослужащих и пенсионеров, а также остронуждающихся они отдавались бесплатно, правда, «не свыше 30% от общего количества». Устраивались «елки» в помещениях Малого оперного театра, Театра им. А.С. Пушкина, Большого драматического театра, в Доме ученых и в Доме Красной армии, но нередко и в школах. В театрах и Домах «елки» проводились наиболее пышно, если здесь уместно это слово. «Стояла красавица-елка, богато разукрашенная, сверкающая разноцветными лампочками. Музыка играла, вокруг елки кружились танцующие, сверху елку освещал цветной луч прожектора. Хлопали выстрелы хлопушек, обсыпая танцующих дождем конфетти, шуршали разноцветные ленты серпантина… Народу было так много, что я едва протолкалась», — описывала Е. Мухина новогодний праздник в Большом драматическом театре 6 января 1942 года. Это рассказ школьницы, стремящейся с помощью знакомых ей «красивых» слов литературно оформить свои впечатления, — многие «елки» выглядели победнее. Та же Е. Мухина ожидала, что ей подарят во время праздника конфету, но так и не получила ее.
Некоторых обессиленных детей привозили на «елку» поодиночке, на санках — если нужно назвать подлинные, а не придуманные позднее символы блокады, то, несомненно, это один из них. Праздник начинался с концерта или театрального представления, но трудно сказать, все ли внимательно следили за ними — дети больше поглядывали на обеденный стол. Затем начиналось угощение. Перечень блюд блокадники помнили и десятилетия спустя после окончания войны. В. Петерсон получила на елке дрожжевой суп, мясную котлету с вермишелью и компот из сухофруктов, Ю. Байков — суп из чечевицы, две котлеты с макаронами и желе, О. Соловьева — тарелку супа, котлетку с макаронами и конфету, М. Тихомиров — «крошечный горшочек супа», 50 граммов хлеба, котлету с гарниром из пшена и желе, Е. Мухина — суп-рассольник, заправленный гречневой кашей, большую мясную котлету с небольшой порцией («две столовых ложки») гречки, приправленной соусом, желе из соевого молока. Как видим, на разных «елках» меню было довольно однообразным, и не случайно — острая нехватка «карточных» продуктов именно в первой декаде января 1942 года ощущалась повсеместно.
Предполагалось, что угощение дети съедят здесь же, на «елке», но многие из них тайком уносили часть обеда домой. Несли то, что оказывалось наименее жидким: гущу супа, хлеб, котлеты, желе. Никто из их родных от новогодних подарков не отказывался — не такое было время.
Новый, 1943 год встречали во многом иначе. В.Ф. Чекризов сравнивал новогодние дни этого и прошлого годов и обнаруживал разительные перемены. Тогда — голод, холод, сугробы, занесенные снегом трамваи и троллейбусы и, главное, санки с мертвыми, «которые никогда ни один ленинградец не забудет». Теперь — улицы полны людей, в кино не протолкнуться к билетной кассе, в Александрийском театре от людей тесно, устраиваются танцы. Он услышал в трамвае разговор отца с сыном, горевавших, что не смогли добыть елку, — «думали ли они о елке в прошлом году?». Помимо угощения на «елках» 1943 года детям давались и подарки. Одной девочке повезло — ей удалось побывать на праздниках и в радиокомитете, и в Доме ученых. На первом из них она получила кулек с грецкими орехами, печеньем, пятью шоколадными конфетами, сухими яблоками, на втором — «хорошего мягкого зайца», пакетик с конфетами, три галетки.
В праздниках 1941 — 1943 годов, как в капле воды, отразились все вехи драматической истории осады города. Ноябрьские праздники 1941 года впервые за много лет прошли без парада и демонстрации, но люди вечером вышли на улицы, заполнив, тротуары и мостовые. По радио передавали военные марши и песни, на зданиях висели красные флаги и кое-где портреты вождей — их, правда, было мало. На предприятиях состоялись митинги, детям и школьникам раздавали билеты в театры, причем перед началом спектаклей давали угощение — кашу, котлету и компот. Приметой праздника стали очереди в магазинах — надеялись, что в этот день их скудный ассортимент расширится. Праздничные выдачи по карточкам не были щедрыми. Набор продуктов обычно включал в себя пряник и шоколадную плитку, вино, но, как отметили очевидцы, пьянства в городе не было.
В ноябрьские праздники 1942 года город был оформлен лучше, на ряде зданий появились панно и лозунги. 7 ноября многие не работали, а среди праздничных выдач были водка, красное вино, селедка, сухофрукты и даже белый хлеб. Неприятно удивили, однако, государственные цены на праздничные продукты. Пол-литра водки стоили 60 рублей, в то время, когда средний заработок составлял 600—800 рублей. Обращала на себя внимание и малолюдность улиц. От бутафорских витрин, где 1 мая 1942 года демонстрировались сделанные из пластмассы овощи, фрукты и гастрономические яства, похоже, отказались — учли, с каким раздражением это было воспринято горожанами.
Обыкновением стало и проведение с весны 1942 года «товарищеских ужинов», продукты для которых собирали вскладчину. В 1943 году чаще проводились вечера молодежи, как правило, они заканчивались танцами. Популярными являлись вечера в Клубе им. Первой пятилетки, правда, имевшие сомнительную репутацию. С удивлением встречали на улицах с весны 1942 года, обычно во время праздников, и горожан, распевавших песни.
Конечно, у подавляющего большинства блокадников были тогда другие заботы. Нельзя не видеть, что праздники служили некоей отметкой, по которой ленинградцы оценивали, как менялся их «достаток», — недаром в их записях так много свидетельств о пайках. И все же город оживал и постепенно стирал с себя черты «смертного времени». Люди не могли жить одним лишь горем, им хотелось и веселья, их тянуло к театрам и книгам, они старались надеть на себя все лучшее, что имели, они стремились выглядеть привлекательнее и красивее.
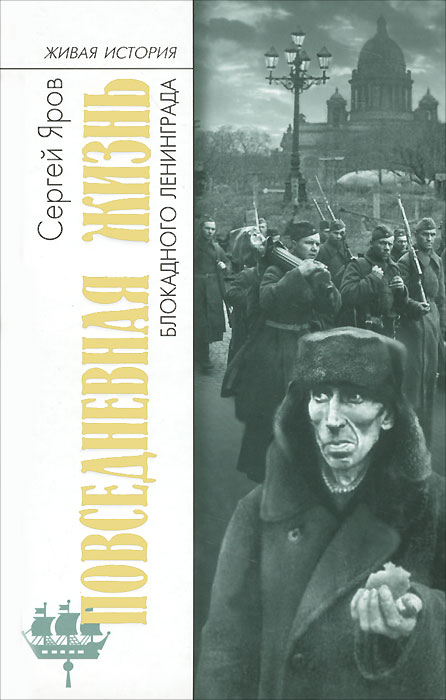 | Сергей Яров. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда |